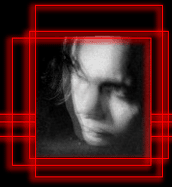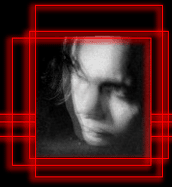Paroles
by Helladood
Parisienne walkways
Посвящается Димке.
Toutes ces cloches de malheur
Toutes ces cloches de bonheur
Toutes ces cloches qui n'ont jamais encore sonne pour moi
Его глаза. Я не знаю, какого они цвета. Названий всех цветов и оттенков, придуманных человеком с его слабой способностью различать краски природы, явно недостаточно. Слово «зеленый» так же пошло и скудно, как абзац официальной информации о Париже в справочнике. Сравнения – «цвет моря, цвет травы» - здесь тоже не годятся. Его глаза не с чем сравнить. Только другие вещи можно сравнивать по цвету с ними.
Он сидит с ногами на неубранной постели и вертит в пальцах ручку. Если на секунду вообразить себя этой канцелярской принадлежностью, можно почувствовать, что в его пальцах сейчас собрались все нервы его тела, несчастная ручка почти дымится от их концентрации. На колене у него листок из моего блокнота, исчерканный и исписанный острыми закорючками. Он сосредоточенно смотрит то в белизну листка, то в потертую синеву своих джинсов, то вперед и вниз, в плинтус и растительный узор на обоях. На самом деле он не видит всего этого; он смотрит в вечную бездну – ту, которая небеса и преисподняя, - в которую смотрели когда-то Аполлинер и Бодлер, Рембо и Верлен, находясь где-то совсем неподалеку. Я тоже туда иногда заглядываю. Но у него есть там свой собственный уголок, своя сокровищница одному ему известных образов и слов. Сейчас он не здесь, он – там.
А я здесь, в номере парижского отеля «Гелиос» на улице Могадор, неподалеку от Оперы. Средней руки крошечный трехзвездный отель с багрово-золотыми обоями в номерах, c обшарпанными, крашеными под золото деревянными рамами зеркал, c пластиковыми ангелочками над кроватями и с кривоногими мадампомпадуристыми креслами, обитыми протертым красным плюшем. Ибо «гелиос» в данном случае – тот самый le roi solei , Луи Четырнадцатый; и больше нигде в Париже вы не найдете столь же откровенной, неуклюжей и очаровательной претенциозности, как в «Гелиосе». Я жила здесь во времена моего самого первого приезда в этот город – надо ли объяснять, почему меня теперь всякий раз тянет в эту красно-золотую конуру? Что же касается моего спутника, то его меньше всего волнует название отеля и количество звезд, чем я успешно пользуюсь. И по большому счету это всё действительно не так уж важно на фоне самого главного факта: траектории нашего с ним движения во времени и пространстве в который уже раз пересеклись в одной точке, и пространство стало одним городом, одним номером в гостинице и одной постелью, а время так вообще остановилось и ждет в нескольких днях между весной и летом.
Перед окнами нашего номера, на другой стороне тесного переулка – здание с офисами. Сегодня утром я распахнула рассохшуюся раму и высунулась в майское утро, чувствуя, как прохладный ветерок струится по моим голым плечам. Клерки в офисе на четвертом этаже мигом прильнули к окнам, на их губах читались беззвучные возгласы, кто-то даже помахал рукой. Позже они тоже глазели и махали руками, когда он курил, облокотившись о выгнутую узорную решетку в низу окна и нависая над мокрым асфальтом в переулке. Ночью шел дождь, и даже с третьего этажа можно было почувствовать запах испаряющейся с асфальта воды. Он смотрел на лужи, а любопытные французы смотрели на него, долго-долго, пока его докуренная сигарета не спикировала точно в центр лужи под окном.
На него можно смотреть очень долго. Просто смотреть и видеть. Так же долго и интересно можно смотреть только на кошек. Пожалуй, на него еще дольше. Но мне никогда не удается насмотреться вдоволь, он начинает сердиться на меня.
И сейчас я сижу с ногами в кресле и смотрю, как он что-то сочиняет. Как медленно взлетают и падают его ресницы; как все сильнее изгибаются и сползаются на переносице брови. Как дрожит прядь темных волос от дыхания ветра из окна. Я смотрю на него уже так долго, а он все еще этого не замечает – этого достаточно, чтобы утверждать: день удался. Наверное, он и не догадывается, какое счастье мне доставляет одним своим присутствием.
Я вздрагиваю от неожиданности, когда он вдруг поднимает голову, выпрямляется и злым жестом комкает листок бумаги. Белый комок летит в сторону окна, но попадает в угол, рядом с моим креслом.
- Не получается? – я изо всех сил вытягиваю ногу, пытаясь достать пальцами бумажку.
Он бубнит что-то невразумительно-досадливое. Я наконец достаю и разворачиваю измятый листок. Он весь густо исчеркан чернильными полосками, только одну строчку можно разобрать. Она похожа на кардиограмму задыхающегося сердца: «noonewillloveyoulikeido».
- Это как?
- Не знаю.
- Понятно, - говорю я как можно серьезнее.
Он берет гитару, которая лежит рядом с ним в постели на моем месте. Могу поспорить, он способен обнимать ее ночью вместо женщины и даже не заметить подмены. Его длинные пальцы мучают гриф и пытаются извлечь из струн какую-то сложную мелодию. Они не слушаются его – ни струны, ни пальцы; он начинает снова, и снова, и снова, и все время что-то срывается, и он хмурится всё больше, и наконец начинает слабо мурлыкать что-то под нос, но это не помогает, мурлыканье переходит в разочарованный стон и сильный удар по струнам прекращает пытку гитары.
- Лучше спой что-нибудь, а? Пожалуйста.
- Не хочется, - он раздраженным жестом откладывает инструмент и берет с тумбочки пачку сигарет и зажигалку.
- Ну пожааалуйста! Для меня...
- Нет. Не проси, - сегодня даже зажигалка против него.
- Совсем не хочется?
- Нет.
- Ты поёшь, только когда хочешь?
- Угу, - колесико зажигалки настойчиво проворачивается под его большим пальцем.
- А как же на сцене? Там тебе всегда хочется?
- Сцена – другое дело… - бунтарка наконец уступила и лизнула кончик сигареты оранжевым языком.
- А сейчас почему не хочешь?
- Настроения нет… - глубокая затяжка служит наградой его маленькой личной победе.
- Ах ты, соловей… птичка певчая, птичка капризная! Настроения у него нет! А крылья у тебя есть, а, птичка?
Мои усилия тоже достигают цели: на его губах просыпается долгожданная слабая улыбка. Он ищет, чем бы в меня запустить, под рукой только гитара, а гитару жалко. Тогда он жалеет и меня. Я выдвигаю новое предложение:
- Пойдем прогуляемся что ли.
- Ты же уже гуляла сегодня…
«А ты думаешь, можно нагуляться по Парижу, как можно вдоволь насмотреться на тебя?» - хочется сказать мне.
- Пойдем, побродим еще. Развеем твою хандру.
- Ну давай. А где ты сегодня была?
- У Бастилии.
- Её же разрушили.
- Да, но осталась площадь Бастилии. Там я и была.
- И что там интересного?
- Много чего. Например, я видела место, куда посмотрел Робеспьер в день своей казни перед тем, как подняться на эшафот.
- Да? Это место отмечено мемориальной доской?
- Нет, не отмечено. Я просто знаю, что он посмотрел на мансарду трехэтажного дома на углу улицы Лапп. Там сейчас здание Новой Оперы. Это был старый дом, построенный еще при Генрихе IV. Пару раз горел. В мансарде было окно, а на подоконнике сидели голуби. Белый и серый. Робеспьер остановился перед эшафтом и пару секунд смотрел, как они чистят перья и переговариваются о чем-то своем. А потом окно открылось, выглянула женщина. Она хотела посмотреть на казнь. Голуби улетели, и Робеспьер поднялся на первую ступеньку.
Он слушает меня, зашнуровывая кеды, завязывая волосы в хвост и рассовывая по карманам сигареты и непокорную зажигалку. Ироничная улыбка блуждает по его губам. Впрочем, точно так же он обычно улыбается и своим собственным мыслям.
- Там тепло? – спрашивает он.
- Да, хотя было раннее утро, но солнце уже жарило вовсю. Термидор, конец июля.
- Да нет, я говорю: сейчас на улице тепло?
- Ага, можешь идти в футболке.
Он долго и методично наматывает на шею длинную зеленую перекрученную тряпку, потом с маниакальным усердием затягивает узлы под самым горлом.
- Это что, парадная удавка на выход?
- Я тебе рассказывал, как в детстве занимался дзюдо и получил зеленый пояс?
- Было дело.
- Вот это он и есть. Пошли.
Мы сбегаем по лестнице вниз (вряд ли найдется смельчак, способный прокатиться хотя бы этаж в гелиосовском лифте-гробу, обитом изнутри красным ковролином), оставляем ключ скучающему за стойкой Кристиану и выходим на наш тихий и аккуратный Могадор. Налево – косметический магазин «Ив Роше», магазин нижнего белья для силиконовых женщин и магазин одежды «всё по 10 евро». На углу – кафе «У Николя», а за ним – водоворот бульвара Оссманн. Там уже давно выставлены на тротуар плетеные кресла и столики, а напротив прикованы к столбикам велосипеды и скутера; там зацвели каштаны, и по вечерам народу еще больше, чем днем. А по правую руку, вверх по улице – опять кафешки и магазины, и четкие линии церкви Тринитэ в конце перспективы, и вверх на Монмартр. И еще там, в нескольких шагах от «Гелиоса», зубастый афрофранцуз печет и продает самые вкусные в Париже бретонские блины, которыми насквозь пропах весь Могадор.
- Ну, - говорю я, - марш-бросок на Елисейские поля?
- Ненавижу Елисейские поля.
- Я тоже не очень люблю. Я думала, тебе нравятся.
- Я похож на человека, которому нравятся Елисейские поля?
- Да нет.
- Слава богу.
- Тогда… - я пытаюсь выбрать между направлением на Тринитэ и Оссманном. – На Монмартр?
- Решила поиграть в Амели?
- Почему бы нет?
- Да пожалуйста. Только я не тяну на её мужчину-мечту.
- Наоборот. Вспомни, мужчина-мечта Амели Пулен продавал эротические видео в секс-шопе.
Он смеется своим варварским непарижским смехом, и мы поворачиваем в сторону Тринитэ. Мимо винного магазина, мимо бретонских блинов (он любит с сыром, а я с шоколадом и каштановым кремом), мимо редких посетителей в соломенных креслах кафе. О ночном дожде напоминают только лужицы в желобе у края тротуара, а асфальт давно высушен солнцем.
В Париже наступает лето. Это значит, что дни ландышей сочтены, а анютиных глазок на клумбах становится всё больше, и каштановые свечи осыпаются на них сверху белой золой, а до ярмарки Сен-Жермен еще неделя, а до распродаж – месяц, но туристов уже становится заметно больше, и туристические автобусы у Оперы едва разъезжаются, а в «Кафе Мира» не найти свободного столика. Днём не жарко, а по-настоящему тепло, давно пора перебираться в босоножки, и без солнечных очков не выйти на улицу, но вечерами становится прохладно, а ночью можно даже простудиться на ветреной набережной. Пройдет совсем немного времени, и летний зной зальет город, его не впустят лишь в кондиционированные кофейни, только там можно будет охлаждать обожженные плечи и ловить губами кубики льда в запотевшем стакане. Но лето будет везде, повсюду, оно расплавленным золотом вольется в сознание, и мысли будут плескаться в нем далеко друг от друга, их придется так же вылавливать, как льдинки из лимонада. А ночью воздух будет превращаться в фиалково-синий бархат, тяжелый и теплый, пахнущий густыми ликёрами и соблазном мюглерова «Ангела» на террасе «Костеса», и можно будет совсем забыть о связных мыслях и словах, а только медленно-медленно курить всю ночь напролет, глядя в броуновскую суету освещенного сквера Невинных, осознавая свое неизбежное превращение в сфинкса и удивляясь тому, что звуки рояля в соседнем зале текут еще медленнее, чем струйка дыма из губ. А пока Париж прикидывается, что еще не знает о лете, что весна одурачила его, что небо всегда будет таким прозрачным, самым прозрачным и ярким со времен первого дождя в марте. Конец весны, начало лета, никому не известное время года, украденное нами для декораций очередного акта драмы наших странных отношений.
- Так как это всё-таки, - спрашиваю я, - love you like I do? Точнее, like you do? Как именно?
- Понятия не имею, - он пожимает плечами и снова закуривает.
- Не можешь описать?
- Я даже не знаю, что описывать.
- Как что? Любовь.
- А что это?
- Я думала, ты мне скажешь.
- Нашла у кого спрашивать.
Из кондитерской, мимо которой мы проходим, исходит такой божественный сладкий аромат, что я просто не могу не замедлить шаг, чтобы заглянуть в витрину. Там меня дразнят шоколадные пирожные в бумажных корзиночках (кокетливый завиток белого шоколада на макушке, ломтики обжаренного миндаля по краям) и яркие марципаны (красно-бело-голубая Эйфелева башенка патриотично возвышается среди остальных съедобных скульптур). Склоны Эвереста из свежайших круассанов покрыты сахарной пудрой. Прозрачные сладкие кристаллики на засахаренных фруктах отражают солнечный свет, как грани крошечных бриллиантов. Caramels, bonbons et chocolat – одни эти слова в знаменитой песне вызывают смутный импульс счастья; и сахарно-белый кондитер за стеклом витрины выжидающе ловит мой соблазненный взгляд. Пока я таю от своей гурманской слабости, мой спутник успевает дошагать почти до самой Тринитэ. Я поспешно прощаюсь с этой умопомрачительной сокровищницей, мысленно обещая еще заглянуть сюда. Догоняю его бегом и ловлю за рукав.
- Да стой ты! Куда так летишь? Мы же гуляем, а не кросс сдаем!
Он замедляет шаг, подстраивается под мою походку. Мы неторопливо огибаем церковь и выходим на Бланш. Я держу его под руку, он не против. Гуляем.
- Слушай, я вообще-то тебя серьезно спрашивала, про любовь.
- А я серьезно тебе ответил. Не знаю.
- Ты что, никогда никого не любил?
- Да вот, не приходилось.
- Так не бывает.
- Еще как бывает.
- Но наверное, очень редко.
- Не знаю, редко или часто, но вот со мной случилось.
- И как ты с этим?
- Да ничего. Привык.
Его рука под тканью футболки такая теплая и знакомая, как своя собственная, эту сильно выступающую косточку на запястье не спутаешь ни с чем. Совсем как у человека, как у настоящего нормального человека. Но я знаю его уже так давно, кажется, так долго, что я даже еще столько не прожила; и он составляет значительную, может быть, даже слишком значительную часть моей жизни, хоть и редки наши тайные явки – в штаб-квартирах, штаб-номерах, штаб-кафе, даже штаб-аэропортах… viva Paris , наш новый штаб-город. Моё личное досье на этого человека собрано в толстые тома, рассортировано на файлы встреч, опечатано молчаливыми поцелуями, вызубрено наизусть. И все равно сейчас у меня чувство, что я иду по улице с инопланетянином. Будто все с любопытством смотрят нам вслед, смотрят на него, поднимают головы от кофейных чашек и газет, высовываются из окон автомобилей, оборачиваются украдкой. Вроде бы такой обыкновенный, такой свой – и абсолютно инородное тело в ткани этого мира. Двадцать семь несветовых лет назад его заслали агентом на эту планету, он прижился, установил контакты с землянами, освоил в совершенстве пару человеческих языков, по-человечески шутит, по-человечески страдает, вроде бы совсем очеловечился. И пусть ушей-локаторов или лиловых щупалец за ним замечено не было, всё равно на Земле не скроешь до конца свое как минимум альфацентаврийское происхождение. Он просто весь нездешний; он – оттуда, где все такие, и все посвящены в свою большую инопланетную тайну, и где у каждого глаза такого необъяснимого цвета.
Наконец я спрашиваю:
- А что, правда?
Он внимательно смотрит на меня сверху вниз, глаза в глаза.
- Правда.
Впереди уже машет крыльями башенка-мельница «Мулен Ружа». Ярко-голубое небо просвечивает сквозь красные решетки крыльев и сквозь завитки рекламы «Сoca-Сola» на соседней крыше. Вокруг легендарной звезды канкана разбросаны по соседним улицам другие именитые варьете: «Мишу», «Фоли Бержер», «Лапен Ажиль». Здесь же, совсем рядом – площадь Пигаль, главная мышеловка Парижа, где maisons closes открыты круглые сутки. Царство греха, самый расхожий миф этого города.
- Стой, - говорю я, - снимать буду.
Я достаю из сумки фотоаппарат, устанавливаю мою модель на фоне «Мулен Ружа» и заглядываю в объектив. Не то. Развязываю ему волосы, отбираю сигарету, уговариваю сделать лицо попроще. Отхожу подальше и приближаюсь опять. Всё-таки не то. Наконец, прошу его встать на гранитную тумбу у фонарного столба. Он ворчит, но покорно лезет. И вот расхристанный ангел нетвердо стоит на тумбе, прислонившись лбом к холодному железу столба, щурит один глаз от солнца, а прямо за его спиной вращаются красные крылья мельницы. Отличный кадр.
- Мы там играли, - он кивает в сторону вывески пафосного клуба «Локомотив», по соседству с «Мельницей».
- Круто. А в «Мулен Руже» не играли?
- Нет, в «Мулен Руж» почему-то не приглашают.
Потом мы неторопливо идем по Пигаль, и он с видом знатока рассказывает, что в здешних секс-шопах ассортимент весьма интересный, а вот стриптизы исключительно скучные, и что касается «ночных бабочек», то мало кому из них действительно есть что показать. Я молча слушаю, изредка кивая. Я просто люблю его голос. Люблю слушать, как он говорит; неважно что, неважно на каком языке. Как будто кошка потерлась мохнатой щекой и лизнула руку: чуть влажно, шершаво, мягко и так уютно. Вот такой его голос, вечно окутанный дымом.
При свете дня площадь кажется самой обычной, но через несколько часов стемнеет, зажгутся неоновые огни, изабеллы и марианны выставят голые коленки в витринах стриптизов и пип-шоу. Мы сворачиваем на оживленную торговую улочку Лепик, с нее – направо на улицу Аббесс, пересекаем площадь Эмиля Гудо, мимо недавно отреставрированного Бато-Лавуара, где мне мерещатся «Авиньонские девушки», а потом на Равиньян. Грешная Пигаль окончательно тает за спиной, и меня охватывает странное ощущение: с каждым шагом вверх по этой улице нас со всех сторон обступает настоящий Монмартр, тихое предместье, почти спальный район. Через пять минут мы словно оказываемся в другом мире: аккуратные домики с петуниями на окнах, белье на веревках, крошечный сквер с фонтанчиком в замшелой бронзовой чаше и низкорослая статуя святого Дени. Старушка в толстых очках кормит голубей – белых и серых, словно из того термидора; черная лоснящаяся кошка развалилась в резной тени каштановых листьев, дети ползают в песочнице у ног Дени, здесь же мирно покоится каменная голова святого. Дети, голуби, кошка, отрубленная голова, фонтанчик, старушка, каштаны. Монмартр.
Под ногами хрустит мелкий гравий на дорожке, пока мы пересекаем сквер. В одном из домов открываются ставни-жалюзи и выпархивает на улицу музыка: мягкий и чуть надломленный мужской голос неторопливо что-то поёт под струнный аккомпанемент. Поёт про coup de destin , про иллюзии и про руку в руке; с самой французской из всех французских «р». Судя по звуку, это старая-старая пластинка из чьей-то десятилетиями собираемой фонотеки.
- Кто это? – спрашивает он.
- Шарль Азнавур, конечно же. Не узнал?
- Нет, я не знаток французских шансонье. Они тебе нравятся?
- Очень.
- И кого больше всего любишь?
- Прямо сейчас – Азнавура.
- И о чём он поёт?
- О любви.
- Это хорошо.
Мы отдаляемся от дома, где заводят старые пластинки, а голос еще некоторое время летит за нами. Я пытаюсь замедлить шаг, мне жаль расстаться с этим голосом, но он становится всё тише, тише и наконец совсем замолкает. Знакомая мелодия всё еще крутится у меня в голове, и я продолжаю песню. Не пою, а легонько бросаю слова в его спину передо мной:
- Nous avions la main dans la main. Il te suffisait que je t’aime. Je ne peux rien y changer, je ne veux pas cesser de t’aimer. La main dans la main, il te suffisait que je t’aime .
- Перестань, - он раздраженно передергивает плечами. – Я не понимаю этого птичьего языка.
- А разве так важно понимать?
- Да в общем-то нет.
Он замедляет шаг, чтобы я больше не отставала, и берет меня за руку.
- Я знаю только одно слово по-французски – «merde», - сообщает он.
- Отличное слово.
- Мне тоже нравится. Красиво звучит. Мне всё равно, что оно значит.
- Откуда ты его взял?
- Приятель научил.
Узкие улочки, каштаны и домики с петуниями на окнах обступают нас со всех сторон, мы взбираемся всё выше по каменным лестницам между стен с облупившейся штукатуркой, открываем чугунные калитки, пугаем ленивых голубей. Я прекрасно знаю конец этой сказки: дорога в лабиринте неизбежно приведет нас в туристическую ловушку Тертр и на вершину холма, к Сакре-Кёр; но всё-таки если меня спросят, чем бы я хотела заниматься в раю, я отвечу: заблудиться весной на Монмартре.
- А сколько всего песен ты написал? – я продолжаю начатый разговор во время штурма очередной замшелой лестницы - рука об руку, как альпинисты в связке.
- Ммм... штук пятьдесят. – Он хмурится, старательно припоминая. – Да, около пятидесяти.
- Много. И что, все о любви?
Он на секунду задумывается и подтверждает:
- Да, все.
- Ты только что говорил, что не знаешь о любви ничего. Значит, в пяти десятках песен ты лжёшь?
- Я фантазирую.
- У тебя хорошо получается. Убедительно.
- Стараюсь. Главное – самому верить.
- Ты так сильно веришь?
- А ты веришь в то, что Робеспьер смотрел на этих голубей на несуществующем окне несуществующего дома?
Сейчас я верю только в существование Тертр: она здесь, совсем рядом, ее почти уже можно услышать. Мы выходим в очередной сквер, минуем пожилых дам с собачками, мраморный фонтан и домик с балконом, где жила та , от которой остались лишь paroles, et pаroles, et paroles, et encore des paroles , с совсем уже нефранцузской звучной «р». И вот она, площадь Тертр, распахивается перед нами разноцветной палитрой импрессиониста. Местные таланты настойчиво предлагают купить имитации шедевров своих великих предшественников и собственные творения с цветочными натюрмортами и видами Парижа. Мифология Монмартра – художники-поэты, кабаре-канканы - материализуется концентрированно и прагматично. Открытки с Аристидом Брюаном – та самая афиша, где красный шарф и черная шляпа – для непритязательных туристов. Программа-максимум для состоятельных и способных к позированию клиентов (а таковыми здесь по умолчанию считаются все прохожие) - портрет кисти наследника Тулуз-Лотрека, написанный крупными мазками за сорок минут. Не успеваем мы пройти и пары шагов по площади, как меня уже зовут позировать с клятвами создать из меня вторую «Иветту», а то и всех «Авиньонских девушек» сразу.
- Пойдем, - он тянет меня за руку и сердито хмурится на приставучего художника в почти брюановском шарфе. - Этот шарлатан и без нас заработает свои сто евро. Я лучше сам тебя нарисую.
- Бесплатно?
- Ну не то чтобы совсем бесплатно…
Галопом проскакав по Тертр, мы выныриваем прямо к романской церквушке Сен-Пьер. Молча бредем вдоль её глухой каменной стены, покрытой пятнами тени. Я в который раз играю в любимую игру: кладу руку на шершавый камень и впускаю в себя его столетия. Не вечность, но тоже много. Камень теплый, как человеческое тело, он дышит, и если прислушаться, можно услышать биение осторожного сердца глубоко внутри. Чья рука лежала на этом камне лет где-то шестьсот назад? Как она выглядела? Я не знаю этого, но готова поклясться, что какой-то неведомый средневековый парижанин однажды вот так же ощупывал серую стену на уровне глаз и вслушивался в тайную жизнь тогда еще совсем юной церкви. И я сквозь столетия протягиваю руку к тени той древней руки, хозяин которой давно превратился в прах где-нибудь на Монфоконе – и это чувство неописуемо, неназываемо, головокружительно. Но я не расскажу ему об этом, он всё равно не поверит.
Минуем романское чудо и вливаемся в толпу туристов, идущих к Сакре-Кёр. Голубое небо, зеленый холм и этот белый парижский Тадж-Махал – идеальная открытка. Мы рассматриваем ее, стоя у подножия холма.
- Подставка, - говорит он, - для трёх варёных яиц.
- Нет, - возражаю я, - торт. Со взбитыми сливками.
- Два куриных яйца и одно страусиное. Завтрак аристократа.
- И облитый сахарной глазурью.
- Ты всё только о сладком.
- А ты всё о яйцах.
Мне снова хочется его поснимать и я прошу его подняться на лестницу, ведущую к базилике. Он садится на ступеньки точно в центре лестницы, закуривает. Я отхожу назад, к смотровой площадке, и снова долго-долго примериваюсь через объектив. По лестнице поднимаются и спускаются туристы, некоторые тоже садятся на ступеньки, некоторые фотографируют друг друга. На их фоне он выглядит живописным оборванцем, в своих видавших виды джинсах, невзрачной футболке с вытянутыми рукавами, стоптанных кедах и дзюдо-удавке, со спутанными ветром волосами и ленивой полуулыбкой. Словно дополняя мои мысли, он неторопливо вынимает окурок изо рта - двумя пальцами, как держат косяк с коноплей, - выдыхает дым и кошачье жмурится. Кажется, он всю жизнь обитает на этих ступеньках, погруженный в свои мысли и солнечный свет, и ночует здесь же, как настоящий парижский клошар, и мне забавно наблюдать, как туристы аккуратно обходят его со всех сторон, будто это архитектурный элемент лестницы.
Он настолько пригрелся на солнце, что не замечает, как я машу ему рукой и зову спускаться. Приходится подняться к нему и за руку вести вниз. Мы находим свободное местечко у ограждения смотровой площадки и долго смотрим на каменную пустыню Парижа. Крыши, крыши, крыши, атласная ленточка Сены, коробка Лувра, шпилька Эйфелевой башни, и снова крыши, крыши.
Он разглядывает панораму с видом полководца, обозревающего только что завоеванные земли, удовлетворенно улыбается и наконец констатирует, что пора вернуться на Тертр и устроить заслуженный привал. Мы выбираем самое тихое и симпатичное кафе на площади, садимся за столик на улице, глубоко в тени красно-белого тента, где нас не смогут достать торговцы сувенирами, художники и туристы. Долго и придирчиво изучаем меню, где назван десяток сортов семидесятиградусного яда – того, что цвета его глаз.
- Абсент? – игриво предлагаю я.
- Ни в коем случае.
- Что ж так?
- Неудачный опыт.
- Тебе просто не повезло.
- Абсент – зло. Знаешь, до чего он довел одного художника-импрессиониста? Не помню его фамилию… короче, парень начал рисовать синие розы.
- Ничего подобного. Просто у него не было денег, как и у всех импрессионистов тогда, он покупал самые дешевые краски, они со временем линяли, и красный становился синим…
- А почему у него не было денег?
- Ну ясное дело… бедный художник… непризнанный гений…
- Денег у него не было, потому что он всё пропивал. Пил абсент.
После познавательного исторического экскурса я задумываюсь, не стоит ли мне завязать с алкоголем на всю оставшуюся жизнь. Ну по крайней мере ближайшие часы я точно проведу в трезвости. Знаток биографий французских импрессионистов тоже почему-то отказывается даже от пива. Есть нам обоим не хочется совершенно. Отвергнув все пункты меню, мы в конце концов просто заказываем по чашке эспрессо. Двойного. В этом что-то есть необъяснимое: пить чистый эспрессо, черный-пречерный в белых-пребелых чашках, здесь, на Монмартре. Я снова потихоньку развлекаюсь: сначала ныряю взглядом в обжигающий черный омут в белом кольце чашки, а оттуда – в мятный холодок его задумчивых глаз, и потом обратно в кофейную геенну. Он опять смотрит куда-то то ли через моё плечо, вдаль, на площадь, на небо, то ли глубоко внутрь себя. Кофе стынет, сигарета истлевает в пепельнице. В его лице постепенно проступают мягкие детские черты, как часто бывает, когда он уходит в свои личные, недоступные мне измерения. Я особенно люблю смотреть на него, когда он такой.
- Итак, - говорю я, в очередной раз выныривая из его зрачков и разрывая этот заколдованный круг, - Ты ничего не знаешь о любви. Но поёшь только о ней. Что бы это значило?
- То, что я хочу всё-таки узнать, что же это такое.
- Зачем это тебе?
- Мне интересно.
- Больше всего остального?
- Гораздо больше.
- Есть еще куча интересных вещей. О них тоже стоит петь. Их тоже стоит узнавать.
- Например?
- Например… да вся жизнь, чёрт возьми. Та, что здесь и там. Та, что была, есть и будет. Многие пытаются в ней разобраться. Да в общем-то все. И многие о ней поют. Большинство. В жизни много разных тем. И любовь в том числе. Жизнь как тема более всеобъемлюща. Первична, я бы сказала. По отношению к любви.
- Ты правда так считаешь?
- Конечно.
В ответ он улыбается, легко и долго, уголками рта и глаз – так, что мне начинает казаться, что я ничего, абсолютно ничего не знаю ни о нём, ни о чем-либо на этом свете вообще.
- А по-моему любовь куда больше всей жизни. Сильнее. Важнее. Первее. И так далее.
- «Любите друг друга и размножайтесь»? – у меня в голове всплывает единственная ассоциация.
- Не только. Я к тому, что любовь двигает этот мир куда больше, чем что-либо еще. Всё в конце концов сводится к ней. И только.
- А я так не считаю.
- Ну и ладно. Мне лень спорить.
- Да мне тоже. Но я поняла, о чём ты. Знаешь, у Павича в какой-то книжке есть такая фраза: «продеть свою жизнь через сердце, как через игольное ушко».
- Хорошо сказано.
Голуби на Тертр такие же наглые, как художники. Бело-рыжий нахал, громко хлопая крыльями, приземляется прямо на край нашего столика и с интересом заглядывает в мою чашку. Там нет ничего, кроме кофейной гущи, тогда он обследует пепельницу. Пару раз ткнув клювом окурок, он презрительно отворачивается и упархивает куда-то на пол. Под соседним столом птичке удается разжиться крошками круассана, на которые, как по команде, слетаются еще несколько голубей.
- Закрой глаза, - прошу я. Он закрывает. Я разглядываю желто-лиловые пятна, разлившиеся вокруг его глаз. Они никогда не сходят, сколько я его помню, лишь чуть тускнеют в лучшие дни, а сегодня к ним добавились еще и красные тона по краям век, и сами веки кажутся болезненно-полупрозрачными. Он так тихо и безропотно переносит свою бессонницу, что я узнаю об этом только наутро и только по глазам; он не встает и почти не ворочается, чтобы не разбудить меня, разве что сегодня перед рассветом я сквозь сон услышала, что ему стало трудно дышать и он наощупь искал лекарство в тумбочке.
Иногда мне кажется, что внутри у него заведена маленькая адская машинка, работающая на самоуничтожение организма. Улитка накрепко заперлась в своей ракушке, копошится в своих мыслях и переживаниях, и однажды ракушка не выдержит, треснет, и нельзя уже будет ее собрать. И отчего она раскололась – кто её знает. При этом он способен вырабатывать неограниченную энергию, заряжая ею всё и всех вокруг; он кого угодно заставит сделать что угодно и сам сделает в десять раз больше. А еще он умеет обладать таким истинным, прочным, безупречным дзен-спокойствием, что люди на улицах оборачиваются ему вслед.
- Можно открывать? – кротко осведомляется он.
- Да, уже можно.
Он открывает глаза, которые вновь захлестывают меня своим непознаваемым оттенком. С подозрением склоняется над своей чашкой. Хмурится, высматривает что-то в ней то одним глазом, то другим. Хмурится еще больше и качает головой.
- Сколько? – строго спрашивает он.
- Что? – выдавливаю я из себя, умирая от смеха из-за его гримас.
- Цианистого калия. Сколько ты мне его всыпала, пока я не видел? Чайную ложку?
- Столовую! С верхом!
- Ооо! – его лицо расплывается в счастливой улыбке. Он тщательно размешивает ложечкой остатки кофе, залпом выпивает и удовлетворенно облизывается. – Чудесно! Нет ничего лучше чашечки черного кофе, щедро сдобренного цианистым калием! - (Я одобрительно хрюкаю из-под стола). – А теперь давай позовем официанта и расплатимся, пока этот чудесный порошок не начал действовать. Иначе тебе придется оплачивать не только мои похороны, но и две чашки эспрессо.
В ответ на его жестикуляцию, пощелкивания пальцами и невнятные попытки потребовать счет по-английски официант нервно дергается, но не делает ни шагу в нашу сторону.
- Ты зовешь его, как будто это шотландская овчарка! – я потихоньку прихожу в себя, но, похоже, вот-вот опять впаду в смеховую кому. – Ему нужно крикнуть: «garcon!»... «Гарсон», мальчик то есть по-французски.
- Мальчик?! Этот седеющий месье, у которого наверняка уже дочка ждет первого внука? Мальчик...
- Ну давай, докажи мне, что это девочка...
Нам наконец-то удается расплатиться, мы снова ныряем в ослепительный круговорот Тертр и бредем по лесу мольбертов и стендов с открытками. Тот художник, жаждавший нарисовать меня, уже нашел себе жертву: крупную брюнетку с лошадиными скулами, явно немецкую туристку. Немка, с трудом умещаясь на раскладном стульчике, застенчиво натягивает улыбку на лицо и слишком короткую юбку на голые коленки. За сотню евро даже из нее выйдет «Иветта».
Пока мы разглядываем художника и его натурщицу, кто-то тихонько трогает меня за локоть сзади. Я оборачиваюсь, собираясь снова объяснить, что «я сегодня не рисуюсь». Но это не художник, это слепой попрошайка. Опираясь на свою тонкую белую трость, устремив на нас невидящий взгляд из-за круглых черных очков и бормоча обычную скороговорку «Chers messieurs…», он протягивает к нам раскрытую ладонь. Я начинаю шарить в сумке, потом в карманах. Результаты неутешительны.
- У меня только «Diner’s club» и «Visa»! – жалобно говорю я.
Мой спутник, ворча что-то про «понаделали себе кредиток...» тоже роется в карманах. Извлекает оттуда первую попавшуюсь мятую купюру (десять евро, кажется) и не глядя кладет ее в протянутую ладонь. Длинные пальцы слепого смыкаются вокруг его кисти, как лепестки хищного растения, к ним присоединяется его вторая рука; не выпуская трости и купюры, они пару секунд жадно ощупывают стертые о струны и вечно пахнущие никотином пальцы, обветренную кожу, тонкое запястье с татуировкой и выступающей косточкой. Кажется, слепой хочет раз и навсегда запечатлеть осязанием руку своего благодетеля и отложить ее копию в коллекцию сотен, а то и тысяч таких же ощупанных им рук, мужских и женских. Только после этой процедуры он отпускает его руку, улыбается, сверкая безупречными зубами и благодарит:
- Merci, monsieur, vous etes si bon !
Слепой остается позади, мы покидаем Тертр, но я все еще чувствую словно устремленный мне в спину невидящий взгляд сквозь темные очки. Ощущение настолько реальное и неуютное, что по моему позвоночнику даже пробегает волна неприятной дрожи. Я снова беру его руку, изо всех сил стискиваю ее пальцами, как будто чтобы убедиться: вот она, здесь, всё та же, ее никто не отнимал у меня. А он опять о чем-то думает, и эта невысказанная мысль звенит в воздухе, как натянутая струна.
- Знаешь, что больше всего интересует этого слепого в его слепой жизни? - от звука его голоса я вздрагиваю, но одновременно расслабляюсь и чувствую приятное тепло, растекающееся в душе.
- Что же?
- Цвета и очертания предметов.
- Получается, он тоже художник. В каком-то смысле…
- В самом полном смысле. Ему не хватает лишь одной мелочи: зрения.
- Серьезная мелочь.
- К сожалению, да.
- Он не может воплотить цвета и предметы потому, что не видит их. Он не сможет создать их изображения такими, какие они есть. А если и создаст, то не сможет оценить результат. Так ведь?
- Именно, - соглашается он.
- Хорошо. Тогда я не понимаю одного: как можно петь о любви, не зная, что это такое. Кажется ведь, что ты точно это знаешь. Ты подбираешь слова и звуки и связываешь их вместе так, что они безупречно описывают неописуемое. Ты поёшь как будто обо мне. Обо всех, кто когда-нибудь любил.
- Так и есть. О тебе и всех остальных, но не о себе.
- Но откуда, черт возьми, ты знаешь?
- Я всего лишь двигаюсь наощупь. И рисую то, что я хочу видеть. Таким, каким хочу. Так получается.
- И получаются фантазии, которые для многих оказываются правдой?
- Видимо, да. Но дело не в том, правда это или нет… я же не знаю, в чем эта правда на самом деле. Это лишь вопрос веры.
- Тебе нельзя не верить. Даже я верю.
- Я и сам верю. Стараюсь. Это самое главное. А понимать необязательно. Ты же сама мне это недавно сказала, помнишь?
- Это касалось другого…
- Это касается всего. Можно сойти с ума, если всё понимать.
- Если понимать, что в доме на углу улицы Лапп никогда не было мансарды?
- Да. И понимать, что ты поёшь о том, чего всегда был лишён.
Мне хочется как-то ему возразить, но я не знаю, как именно это сделать. Чувствую, что есть какое-то уязвимое место, камень-ключ в основании железобетонного сооружения его логики. Может быть, всего одно слово – какое? Гиблое дело, вслепую ощупывать руками глухую стену.
Мы снова, как заблудившиеся мыши, пробираемся по сонным антресолям Парижа, куда кто-то забросил милые, любимые, но бесполезные игрушки: домики с жалюзи и цветочными горшками на окнах, чугунные решетки, по которым вьются молодые побеги винограда, блестящие лакированные «пежо», припаркованные на наклонных мостовых, усатый моряк на автобусной остановке, старинная кофемолка в витрине магазина. Солнце греет наши спины, спускаясь за нами по каменным ступенькам вместе с призраками пугливых тирсеновских вальсов. Не оборачивайся – спугнёшь робкую m-lle Poulin, что давно уже следит за нами своими глазами-маслинками. Еще немного, и я начну понимать, почему дрожит рябая тень виноградных листьев на скамейке, хотя ветер давно задержал дыхание, почему афиша на стене приглашает на сеанс уже забытого фильма, почему бокал, оставленный на столике в кафе превращает солнечный луч в радугу на скатерти – еще немного, и всё станет ясно, но в последнюю секунду оно ускользает, не дождавшись от меня заветного слова, и я снова и снова перебираю взглядом детали этой резервации домашнего уюта с их крошечными, но такими важными секретами.
С очередной лестницы мы сворачиваем налево, в безмолвные дворы, всё глубже в каштаны, и скоро натыкаемся на высокую чугунную ограду. С ее южной стороны дикий виноград вскарабкался по прутьям, добрался до самого верха и теперь протягивает зеленые плети в небо, в тщетной попытке снова за что-нибудь зацепиться. За оградой смутно виднеются ровные ряды каменных надгробий и крестов, а в глубине, за деревьями проступают очертания небольшой церквушки. Бредем вдоль ограды, пока на встречаем ворота с надписью над ними: «Cimetiere de Montmartre» . Сторож клюет носом в деревянной будке у ворот.
- Тут еще недалеко Пер-Лашез, - говорю я, - хочешь, сходим?
- Да я там был. Когда приезжал сюда первый раз. Мой приятель водил меня на могилу Моррисона. Он говорит, что я похож на Джима.
- Он врёт.
- Да нет, он просто фантазёр.
- Куда еще он тебя водил?
- На Пигаль и по кабакам. Он здесь все кабаки знает.
- Хм, пожалуй, этого достаточно, чтобы показать свой Париж.
- Он тоже любит этот город. Без ума от него. Вы бы с ним сошлись.
- Я тоже так думаю.
- И он тоже играл в «Локо» пару раз. Крутил пластинки, ди-джеил.
- А в «Мулен Руже» ничего не крутил?
- Нет, в «Мулен Руж» его тоже не позвали.
- Мерзавцы...
Он помогает мне забраться на нижнюю перекладину в ограде. Я стою там, держась обеими руками за прутья, и чувствую легкое приятное головокружение, не столько от высоты, сколько от того, что смотрю на него сверху вниз, на неровную светлую полоску пробора в темных волосах, тонкую сетку ресниц и острый кончик носа. Я перевожу взгляд на кладбище. Деревья здесь, наверное, выше, чем где-либо еще в городе. Где-то высоко-высоко, на уровне самых верхних веток, поселилось солнце. Оно робко заглядывает редкими лучами в просветы между листьями и не решается спуститься ниже. Пахнет кладбищем, то есть землей, камнем, тишиной и ветром, уснувшим в ветвях. Посеревший от времени мраморный ангел склоняется над могильной плитой. Плита выкрошилась по краям, обросла травой; наверное, и надписи на ней уже не видно. Но две лилии ванильного цвета на ней совсем свежие, я почти могу уловить их резкий аромат. Будто только сегодня утром кто-то оплакивал кого-то, умершего еще в прошлом веке. Кого-то, кому понравились бы ванильные лилии и скорбящий ангел с парой окаменевших крыльев. Застывший ангел – вроде того, что стоит сейчас рядом со мной, всматриваясь в кладбищенские тени.
- Ты когда-нибудь был близко к ней? Так близко, что вот-вот мог узнать?
- Не знаю. Понятия не имею. Но мне часто казалось, что я близко. И что это оно и есть. Я слишком часто принимал за любовь какие-то другие вещи.
- Принимал? А сейчас этого больше не происходит?
- Я уже даже не знаю, что принимать. Слишком много было проб и ошибок. И все пробы заканчивались ошибками.
Маленькая серая птичка приземляется на ограду, совсем рядом с моими пальцами. Не воробей, какая-то другая, чуть покрупнее. Я заметила ее, еще когда она деловито кружилась вокруг головы ангела – лишенной нимба, и оттого словно бы лысой. Птичка суетится на чугунной перекладине, не обращая никакого внимания на мою неподвижную руку. Он поднимает голову и внимательно смотрит на этого то ли дрозда, то ли бог знает еще кого. Он смотрит, а в это время солнце далеко вверху собирает всю свою храбрость и ныряет в его широко открытые глаза, заставляя их светлеть до прозрачности, а зрачки сужаться. Если в солнечный день долго смотреть в озеро, то можно там увидеть проплывающую рыбешку, а то и поломанную ракушку на самом дне, среди подводных дюн. Но пожалуй, сегодня я не увижу ничего. Солнце не успевает выскользнуть из плена его опустившихся ресниц; он опять наклоняет голову и над кладбищем становится еще сумрачнее, чем раньше.
- Ты просто боишься…
- Это просто инстинкт самосохранения. Хватит уже, сколько можно? С каждым разом всё больнее.
- Ты сам себе противоречишь. Ты же говорил, что очень хочешь узнать.
- Не в курсе, где-нибудь лечат от мазохизма?
Я молчу, прижимаясь лицом к холодным прутьям ограды. Он ехидно улыбается и кивает в сторону кладбища:
- Знаю, горбатого только одно исправит…
- Не думаю, что Монфокон исправил Квазимодо.
Тишина еще не успевает родиться, как ее безжалостно уничтожает звук колокола в кладбищенской церквушке. Он звонит семь, или десять, или двенадцать раз, а может быть больше, и всё кладбище вместе с оградой раскачивается внутри этого звука влево-вправо, вправо-влево… Эхо последнего удара поселяется у меня в голове вместе с непременным и навязчивым: «Toutes ces cloches de malheur, toutes ces cloches de bonheur, toutes ces cloches qui n'ont jamais encore sonne pour moi». Теперь ведь не отвяжется.
- Пойдем, - говорит он, протягивая мне руку и помогая спуститься. Плененное солнце до сих пор мечется вокруг его зрачков.
Между бульварами Монмартр и Сен-Мартен есть место со странным названием Bonne Nouvelle – «хорошая новость». Впрочем, не такое уж оно странное, если знать его историю. Давным-давно здесь, на глухой и мрачной окраине Парижа, стоял легендарный Cour des Miracles – Двор Чудес, главный притон всех парижских воров, разбойников, цыган и нищих. Это место наводило ужас на окрестных жителей и стражей порядка до тех пор, пока очередной просвещенный король не решил расчистить себе место для воскресных прогулок и приказал сравнять Двор Чудес с землей, а маргинальную братию вместе с их некоронованным владыкой выставил за ворота Сен-Дени. В тот знаменательный день радостные парижане рассказывали друг другу о королевских зачистках и слышали в ответ неизменное: «bonne nouvelle !», и по удивительной парижской логике это восклицание намертво привязалось к одному из бульваров, которые длинной цепочкой протянулись по бывшему чреву Парижа.
Я рассказываю ему эту историю, пока мы идем по Фобур к бульварам, и верю в нее настолько, что даже ощущаю специфические ароматы Двора Чудес, не выветрившиеся с Бонн Нувель по сей день. Он слушает вроде бы с интересом, потом отпускает очередное колкое замечание относительно французских нравов и выдыхает облако сигаретного дыма, который сразу перебивает померещившееся мне многовековое амбрэ. Возможно, и не было амбрэ, и не было вообще никакого Двора Чудес с его жуткими королями, а есть только дым от его очередной сигареты, и прямо за поворотом – современный бульвар Бонн Нувель.
Похоже, весь праздный правобережный Париж высыпал сегодня вечером за столики бульварных кафе. Кажется, что мы идем по огромному банкетному залу Бон Нувель, переходящему в зал Монмартр, а затем – в Оссманн. Или по бесконечно длинной сцене варьете, перед которой за столиками сидят зрители; сидят и лениво провожают взглядами дефилирующую перед ними пару – девушку с короткими светлыми волосами и высокого худого молодого человека. Или же справа от меня тянется масштабная экспозиция музея под открытым небом? Выберем последнее. Я знаю, нехорошо смотреть на людей, когда они едят; я и не смотрю, разве что чуточку, краем глаза. Вон странная парочка: немолодая полная дама в мешковатых шортах и хрупкий юноша в очках. Откусывают по очереди длинный сэндвич с сыром и помидорами и, не прожевав, страстно целуются. Опять бутерброд, опять поцелуй, опять бутерброд. Пухлые пальцы женщины судорожно лохматят светлые волосы ее любовника. За ними с недоверием наблюдает официант, протирающий соседний столик. На стуле рядом – забытый кем-то свежий номер «Либерасьон». Garcon берет газету двумя пальцами, хмуро рассматривает заголовок на первой странице.Что-то его явно привлекло, потому что он светлеет лицом и засовывает газету в карман фартука.
Что там еще? Галдящая компания студентов за тремя сдвинутыми столиками, еще более галдящая группа туристов-пенсионеров, влюбленная парочка, одинокий усатый мужчина, семья с детьми-близнецами, двое мужчин – обыкновенные, в деловых костюмах, еще двое мужчин, тоже обыкновенные, но оба в цветастых юбках по колено. Костлявая официантка несет кому-то восхитительный многоэтажный десерт, всем своим видом выражая классовую ненависть к буржуазному образу жизни. Девушка уронила стакан колы на колени своему кавалеру и покраснела вплоть до голых пяток в босоножках. «Люди» - самая увлекательная экспозиция в кунсткамере под названием Земля.
Я иногда думаю: неужели все эти человеческие существа – на улице, в метро, в кафе, в гостинице, везде – живут своей собственной жизнью? Встают рано утром, думают о своих собственных вещах, участвуют в своих собственных больших и маленьких событиях? Неужели то мгновение, когда они проходят перед моими глазами, сидя за столиками в кафе или спускаясь по эскалатору – не единственный миг жизни этих кадров моего личного видеоряда? Что если это – полноценное звено в цепочке их жизней между их собственным прошлым и их собственным будущим? Что если их головы действительно наполнены их личными мыслями и чувствами, и каждый видит вокруг свой собственный мир? И таких людей, таких миров, таких неразгаданных тайн – пять миллиардов в данный конкретный момент, а сколько их было за тысячи лет до этого, и сколько будет еще. Разве не это самое большое чудо на земле? И как не сойти с ума, осознав его?
Я так никогда и не узнаю, что будут делать сегодня вечером полная дама в шортах и светловолосый мальчик в очках. Закажут еще сэндвич и по стакану вина, а потом будут гулять по бульварам, дойдут до Оперы, вернутся назад, свернут на Монмартр, в гостиницу, вроде нашего «Гелиоса», и там, в номере, не задернув шторы на окне, будут заниматься любовью до рассвета? А через два дня ее командировка закончится, и она уедет к себе в Лион, в бухгалтерию страхового агентства, к мужу и двоим детям. А он будет продолжать писать диплом на химическом факультете Сорбонны и страдать бессонницей в тесной квартирке, которую он вместе с другом снимает в Латинском квартале. Так? Или нет?
Я не знаю, я совершенно ничего не знаю. Всё для меня тайна – и эта пара, и мужчины в юбках, и официант с газетой «Либерасьон». А самая большая тайна мира – моего мира – сейчас шагает рядом со мной, на ходу зажигая очередную сигарету и откидывая лезущие в лицо волосы. Загадка, которую мне никогда не разгадать; душа, которую мне никогда не выкупить у ее неведомых владельцев; сердце, которое мне никогда не приручить.
- Как думаешь, - говорю я, кивая на оригинальную парочку, на официанта и всех, кто уже остался за спиной, - как думаешь, они знают что такое любовь?
- Еще бы. Люди, которые выдумали триста названий сортов сыра, должны были и до такой ерунды додуматься.
Большой красивый пёс, золотистый ретривер, поднимается из-под одного из столиков и, размахивая пушистым хвостом, начинает проявлять интерес к моему спутнику. Неудивительно, собаки и кошки почему-то все время к нему пристают. Он останавливается, чешет ретривера за ухом, заставляя его хвост двигаться в совсем уж бешеном темпе. В лучших традициях французских комедий пёс дергает поводок, которым привязан к столику; бокалы на столике дребезжат, вино выплескивается на скатерть. Хозяйка собаки, сухощавая, немолодая, безупречно одетая женщина одной рукой ловит бокал, другой тянет к себе поводок, при этом ласково ругая своего «маленького хулигана Шарло» и извиняясь за его любопытство. Ее подруга, такая же парижанка бальзаковского возраста, смеется, и ее крупные зубы кажутся ослепительно белыми на фоне винно-красных губ.
- Знаешь, что самое страшное? – говорит он. - Если вдруг окажется, что этого на самом деле нет. Верь, не верь, хоти его, не хоти – а его нет, и всё тут.
- Есть, точно.
- Ты думаешь?
- Я знаю.
- А я нет. Это как вслепую искать что-то в темной комнате. Кажется, что нашел, а потрогаешь со всех сторон – и оказывается, что это совсем не то. Иногда на редкость мерзкие вещи попадаются. И в какой-то момент начинаешь сомневаться, а в нужном ли месте ты ищешь. Понимаешь о чем я?
- Конечно.
Он смеется:
- Ты всегда всё понимаешь. Что бы я без тебя делал!
Странное дело: похоже, я действительно его понимаю. Может быть, больше, чем кто-либо еще. Но при этом я так катастрофически мало понимаю в нём; и как будто с каждым днём всё меньше. А так хочется понять, узнать, разгадать, расколдовать.
Я не одинока в своем любопытстве. Время от времени кто-нибудь безрассудно пытается вычерпать до дна его душу, чтобы посмотреть, что же там, в глубине. Я слышу эхо их голосов, мечущееся между стенок колодца, когда сама осторожно заглядываю туда. Заглядываю, борясь с головокружением, бросаю вниз камешки и рассматриваю расходящиеся по поверхности круги. Эй, кто там? Ау! Но только моё искаженное, испуганное отражение смотрит мне в глаза.
Да, я понимаю…
Он разрывает цепочку моих мыслей:
- Боль. По крайней мере ее я нашел. Она настоящая. Всегда. От каждой ошибки. Обратная сторона того, что случается только с другими. Чего никогда не было со мной. Того, во что я верю.
- Если это обратная сторона любви, то сама любовь должна быть совсем рядом. Только протяни руку подальше.
- А если это обратная сторона еще большей боли?
Так, обходя столики и припаркованные с другой стороны тротуара скутера, мы доходим до самого Оссманна, где блестящие негры лениво курят на пороге “Hard Rock Cafe”. Моя любимая кондитерская уже закрыта, как и винная лавка рядом с ней, а вот на дверях соседнего магазинчика деликатесов все еще висит табличка «ouvert », и в витрине, среди пирамид из баночек с фуа-гра лениво передвигаются два усатых черно-рыжих кота, похожие на огромных мохнатых тараканов. Отсюда уже видно угловое кафе, за которым – поворот на Могадор, и домой, к обшарпанной синей вывеске с золотым солнцем. Но домой совсем не хочется, хотя ноги уже порядком устали. Моего спутника, похоже, тоже не очень-то тянет в тесный номер. И мы оба, не сговариваясь, делаем вид, что не заметили поворота и сворачиваем к Опере.
Гранд Опера, эта огромная резная музыкальная шкатулка окружена бестолково припаркованными автомобилями и автобусами, а на широкой лестнице туристов не меньше, чем на ступеньках у Сакре-Кёр. Мы огибаем шестиугольник Оперы по двум сторонам, попадаем в толчею бульвара Капуцинок и сворачиваем не в оживленный Оперный проезд, а на относительно тихую и затененную улицу, параллельную улице Мира. Массивные дома наполеоновских времен обступают нас, как гранитные скалы. В подъездах домов – огромные тяжелые резные двери, а на дверях – позеленевшие бронзовые кольца. Такое кольцо просто так не сдвинешь, а уж каково дверь открывать. Наверное, и квартиры здесь такие же огромные и странные, и живут в квартирах странные люди, если вообще люди. Где они, кстати? Только что на площади был настоящий человеческий муравейник, а здесь – ни души, кроме нас двоих, и эхо наших голосов ударяется о стены этого городского ущелья.
- И в конце концов всё сводится к тому, чтобы приглушить боль. Научиться с ней жить. А одному сложно, нужен кто-то еще. Просто чтоб был рядом. Хотя бы иногда, – его негромкий низкий голос не нарушает гробовое молчание улицы, а словно наоборот, дополняет его.
- Кто именно?
- Ну кто-то вроде тебя. А в общем неважно.
- По-моему очень даже важно.
- Для тебя важно, для меня нет.
- Странно.
- Ничего странного. Кстати, это не к разговору о любви.
- Да я поняла.
(«А разве не ты сама всегда этого хотела – просто быть рядом?» - суфлирующий голос истины как всегда остается в скобках.)
Сворачиваем на улицу Мира, минуем ювелирный магазин “Lorenzi”, где продают аргентинские изумруды – те, что цвета его глаз. Изумруды бывают бракованные, с крошечным мутным пятнышком в глубине чистой зелени, тогда их продают чуть дешевле. Странно, я бы наоборот продавала их дороже. Такие необычные камни хочется рассматривать долго-долго, вглядываясь в природную отметину, как в это осторожное беспокойство, притаившееся на дне его взгляда.
- Слушай, ну а если этого в самом деле нет? Вообще нет на свете?
- Есть, говорю тебе.
- Кто тебе это сказал?
- Ты, - уверенно отвечаю я.
Он радостно смеется:
- И ты поверила?
- А как иначе?
Улица выходит на площадь Вандом с ее тонкой колонной, подпирающей небо в самом центре. Похоже на ручку огромного зонтика, который накрывает всю площадь своими ярко-синими полями. Я слышала, что есть такой оттенок синего – «берлинская лазурь». А как насчет чистейшей парижской лазури, в которую выкрашен Вандомский зонтик с резной ручкой? Мы снова идем мимо заполненных людьми кафе, мимо роскошного подъезда отеля «Риц», мимо зеркальных витрин, в которых я краем глаза рассматриваю худенькую девушку в синих джинсах, белой футболке и белых туфлях на плоской подошве, с диковатой джинсовой сумкой через плечо. Её голова достает лишь до плеча тому, кто идет рядом с ней – его отражения не видно в витрине, лишь длинные вьющиеся волосы тёмно-каштановой копной рассыпались над светлыми волосами девушки.
На тротуаре суетится голубиная стая, прикормленная кем-то из посетителей кафе. Мы подходим всё ближе, ближе, совсем близко – голуби не обращают внимания. И вдруг – фрррр! – прямо из-под наших ног вся стая поднимается в воздух бело-серым фейерверком. Хлопанье десятков крыльев на мгновение заглушает все остальные звуки улицы, маленький ураган подхватывает пыль, крошки и несколько перьев, пытается вырвать газету из рук мужчины за столиком, откидывает мою чёлку. Щурясь от солнца, я смотрю, как белые и серые точки рассеиваются по синему шёлку вокруг колонны и приземляются на окрестные крыши.
- Вот видишь, - говорит он, отмахиваясь от тонкого белого перышка, всё еще мельтешащего перед его лицом. - Верить. И не надо оправданий.
- Дело не в оправданиях. Дело в том, что так нельзя. Тебе так нельзя. Это несправедливо.
- Ах да, ты же у нас великий борец за справедливость, - ехидно улыбается он.
Язва. Я и сама-то не лучше, и любого могу поставить на место так, что мало не покажется. Для него обычно делаю исключение – как равный равному. А может быть, и из уважения к его высокоразвитому цинизму, граничащему с невозможной наивностью, к чувству юмора, переходящего из обостренной тонкости в ковбойскую грубость и чернильную черноту. По этой причине я не всегда могу точно определить, шутит ли он или говорит всерьез. Да в общем-то почти никогда не могу определить. И всё, что между нами происходило и происходит – я не поставлю сотню евро на то, что это правда, но и не поставлю двести на то, что шутка. Я привыкла. Годы вечного удивления и недоумения, дни и ночи в сплошном ощущении игры – не слишком большая плата за получаемое взамен. И сейчас я тоже не могу понять, насколько серьезен разговор, затеянный нами еще в гостинице.
Сворачиваем в очередную узкую тихую улочку и переходим на другую сторону, чтоб заглянуть в магазинчик сувениров. Там в витрине, на стенах и прямо на распахнутой двери развешаны самодельные игрушки, вышитые салфетки, раскрашенные деревянные посудины, крупные бусы и прочие забавные штуки, которые так хочется потрогать и рассмотреть. Я верчу в руках симпатичную пухлую ведьму с остроконечным колпаком на торчащих во все стороны волосах и с маленькой, но очень убедительной метлой. А его внимание привлекла тряпичная кукла в белом платьице, с наивными синими глазами-пуговками и короткими волосами из желтых ниток мулине.
- Похожа на тебя, - говорит он, улыбаясь. – Как будто с тебя делали.
- Да ладно тебе…
- Нет, правда… Если ты оденешь такое же платье – вообще не отличить.
- Знаешь, мне кажется, тут имелась в виду Жанна д’Арк.
- Жанна д’Арк?
- Ага, мне почему-то кажется, что это она. Национальная героиня все-таки. Вот и пошла на сувениры.
- Ну значит ты похожа на Жанну д’Арк. Вылитая она.
Из-за прилавка выходит хозяйка (скорее всего она и делала своими руками все эти товары) и начинает объяснять, что ей пора закрывать магазин, так что если мы хотим что-то купить, то нужно сделать это прямо сейчас. Мы признаемся, что просто хотели посмотреть, и уходим дальше по вниз по улице. Я слышу, как сзади, звякнув колокольчиком, захлопывается дверь сувенирной лавки, и начинаю жалеть о той ведьме с метлой. Надо было ее все-таки купить.
- Про меня и Жанну д’Арк, - говорю я, - это ты к тому, что я хочу справедливости?
- Нет, справедливость – это к твоему Робеспьеру. Который, как известно, плохо кончил, и голуби ему не помогли.
- Многие считают, что он был из тех тиранов-параноиков, дорвавшихся до власти.
- Но ты же веришь, что это не так.
- Конечно, не так. Он действительно хотел справедливости. Слишком сильно.
- Он искал оправданий, они-то всё и разрушили. А Жанна обходилась без них.
- Жанна тоже плохо кончила. И есть мнение, что она была просто сумасшедшей девкой.
- Она была мечтательницей. Она фантазировала. И верила. Не притворяйся, ты ведь тоже так считаешь.
Мечтательницу мы встречаем тотчас, свернув за угол на Риволи. Хрупкая человеческая фигурка верхом на тонконогой лошадке возвышается на высоченном пьедестале. Заходящее солнце поранилось об острый кончик торчащей пики и теперь заливает золотые плечи статуи прозрачно-розовой кровью. Жанна Сияющая – не такой ли видели ее французские солдаты тогда, под Орлеаном, каких-то шесть сотен лет назад?
- Вот она, - киваю я на памятник, жмурясь от нестерпимого сияния.
- Кто?
- Жанна д’Арк.
- Да нет, это мальчик какой-то. Гарсон.
- Сам ты гарсон!
- Не спорю…
- Вон там, наверху должно быть написано… выше… вон…. Видишь?
Установив личность золотого изваяния, мы вступаем в гламурный базар вечерней Риволи, на минуту дезориентируемся в ее тотальном люксе и экстра-классе, однако я быстро определяю направление, в котором находится кафе с самыми лучшими в Париже пирожными. Но нет, оказывается, туда мы не пойдем. Тогда вперед, за зеленую стену Тюильри, где уже зажглось красными и синими лампочками колесо обозрения? Вот это уж точно исключено, моего спутника не затащить добровольно на такую высоту. Остается покорно следовать за ним, целеустремленно шагающим поперек улицы к чему-то, что привлекло его внимание, стараясь не терять из вида во внезапно образовавшейся толпе его сутуловатые плечи. Обглоданная временем серая громада Лувра – вот что его влечет.
Музей уже закрывается, во дворе нет обязательной дневной очереди из туристов, располагающихся бивуаком по периметру. Наверное, последним группам сейчас показывают «Мону Лизу» и мебель наполеоновских времен, чтобы затем выставить их на улицу, запереть двери и начать приводить в порядок культурную сокровищницу после очередного нашествия la foule des barbares . Резные створки громадной каменной раковины раскрываются и являют нам идеально пропорциональный обломок розового хрусталя – Пирамиду, окрашенную закатным солнцем.
- И что ты будешь делать, если всё-таки найдешь то, что ищешь? – спрашиваю я, когда мы меряем шагами громадный двор, из одного угла в другой.
- Хм... хороший вопрос. Наверное, буду продолжать жить, как и раньше. Петь о том же. А может быть нет. Скорее всего, я просто буду счастлив.
- По-твоему счастье заключается в любви?
- В том, чтобы получить то, что больше всего хочешь. И когда тебе уже нечего хотеть, видимо, наступает счастье.
- Когда ты ничего не хочешь – это нирвана, в буддизме.
- Ага. Ну значит, впаду в нирвану и буду жить отшельником, как настоящий буддист. Только я и любовь.
- Хех, что-то не могу представить себе эту картину.
- Ну значит, не будет этого. Раз даже ты не можешь представить.
- Нет, - я беспомощно оглядываюсь по сторонам, в надежде, что кто-нибудь подскажет мне нужные слова. Но Пирамида молчит, молчит Лувр, только голуби на его крыше перелетают с трубы на трубу. - Ты меня неправильно понимаешь… Я просто никогда не видела, чтоб ты… был по-настоящему счастлив.
- Робеспьера ты тоже не видела. А представить можешь весьма отчетливо.
- Да нет же… я не о том…
- Знаешь, на осуществление мечты нужно иметь право. И на любовь тоже. Я, видимо, этого не заслужил.
- Перестань! Если ты не имеешь права, то кто тогда имеет?
Он выжидательно приподнимает бровь: мол, и кто же? Сама спрашиваешь – сама и отвечай.
- Все имеют право, абсолютно все, - убежденно говорю я. - И ты – в первую очередь.
- Почему?
- Потому что это ты.
Теперь, похоже, ему в самом деле нечем крыть. Смотрит на меня с неподдельным удивлением, по губам вьётся улыбка – так улыбаются, глядя на юродивых. Вьётся и расцветает – в недоумение, в смущение, в радость? Нет, в разочарование; а зачем спрашивать, если заранее знаешь ответ?
- Ладно, закончим этот разговор. Бессмысленно. Я вообще-то не собирался посвящать этот вечер самокопанию и жалобам на несуразную личную жизнь. Это всё не имеет значения.
- Да нет, послушай...
- Я понял тебя. Да, все имеют право на всё, «свобода, равенство и братство»… Отлично. Смотри, что там впереди? Неужели уже набережная?
- Ага, набережная Тюильри… если пойдем по ней влево, дойдем до мостов на Ситэ. Там красиво вечером.
- Замечательно, туда мы и пойдем.
Нам нужно пересечь улицу перед тем, как выйти на набережную. Машин почти нет, но мы все равно дисциплинированно стоим у «зебры» в ожидании зеленого света. Чуть правее возвышается памятник погибшей неподалеку отсюда принцессе Диане. Как всегда здесь горы гвоздик и роз, они как будто вообще не вянут, я всегда их вижу здесь.
- Слушай... еще кое-что к нашему разговору. Последнее.
Я вопросительно смотрю на него, приготовившись выслушать, но его слова тонут в шуме поливальной машины, которая медленно и неумолимо приближается к нам. Пузатый рыжий дракон деловито ползёт по асфальту, неся с собой искусственное цунами; заливает мостовую и тротуар сияющей струей воды, взбивает пыль и мусор в крошечные, тут же гибнущие вихри, оставляет слёзы на дианиных цветах. Мы успеваем отскочить назад, но на круглые носы моих туфлей все-таки выпадают крупные капли, и невидимые влажные иголки покалывают лицо, когда мы пересекаем дорогу и выходим к парапету на набережной Сены. Мне вспоминается мой любимый фонтан на острове Ситэ, в сквере за собором Нотр-Дам.
- Пойдем на Ситэ, я тебе кое-что покажу, - говорю я.
- Давай. Куда это? Налево?
- Да, а потом перейдём на остров по какому-нибудь мосту.
Букинистические лавки на набережной уже закрыты, от воды тянет прохладой, но заходящее солнце еще греет нам спины. Дышу ароматом, который по чьему-то упущению пока не разлит в золочёные флакончики «Фрагонара» : головная нота – мокрая пыль, прибитая струями поливальной машины, сердечная нота – свежо и сладко пахнет недавно скошенная трава на соседнем газоне, шлейф – еще один свежий, сочный неописуемый запах. Может быть, так пахнет вечернее парижское небо в складке между весной и летом. Чистое небо, с редкими мазками маленьких облаков, будто кто-то выдавил розочки крема на глазированную поверхность торта.
- Так что ты хотел еще сказать? – спрашиваю я, глядя вниз, в сонно текущую воду пойманной в плен реки.
Он останавливается и, облокотившись о парапет, тоже смотрит на Сену. Провожает взглядом проплывающий речной трамвайчик, битком набитый туристами. Влюбленные пары и просто прохожие проплывают за нашими спинами либо, как и мы, стоят у гранитного парапета. В основном это парижане, а не туристы. Думаю, нас тоже вполне можно принять за местных. А может быть, даже за влюбленную пару.
- Мне в последнее время всё чаще кажется, что если даже оно и найдется, я уже не способен буду это осознать. Слишком поздно. Слишком много всего было.
- Для этого есть сердце. Оно-то точно узнает.
- То есть то, что осталось от сердца? Оно уже ничего не почувствует. И поделом ему, само виновато. Пора собрать его останки и кремировать с почестями. И развеять над водой… да вот хотя бы тут, над Сеной.
Я присматриваюсь к людям на палубе трамвайчика. Экскурсовод, экспрессивно жестикулируя, что-то рассказывает в микрофон, но до нас доносятся только невнятные звуки. Кажется, из динамика на палубе играет музыка. Скорее всего, это “Sous le ciel de Paris ”, её всегда крутят на bateaux-mouches, чтобы гости столицы не только увидели классический Париж, но и услышали его – кафешантанный, аккордеонный, озвученный вкрадчивым голосом Ива Монтана. Туристы не слушают ни песню, ни рассказ гида, они отчаянно щелкают фотоаппаратами, пытаясь уместить в объектив надвигающуюся Консьержери и виды набережной Лувра. Кажется, мы тоже попали в кадр. На всякий случай я широко улыбаюсь и машу им рукой.
- Если ты будешь так думать…
- Знаешь, я лучше просто посмотрю в справочнике на букву «л» и успокоюсь. Или спрошу у того, кто знает.
- Это не вопросы и ответы… Это должно быть… быть. В жизни.
- Я думаю, в жизни лучше всего так, как у нас с тобой – полуутвердительно-полувопросительно отвечает он, заглядывая мне в лицо. Мне ничего не остается, как кивнуть, соглашаясь и гася горькое лукавство в его глазах.
А ведь правильно, тысячу раз правильно. Надо бы научиться у него вот так же лениво листать чужую жизнь, задерживаясь взглядом на самых интересных абзацах, оставляя пометки на полях – пометки, которые могут кардинально изменить значение текста. И это не к разговору о любви, нет, совсем нет. Это лишь так, как у нас с ним.
Его рука лежит на каменном парапете совсем рядом с моей рукой. Серо-зеленоватый камень за день нагрелся от солнца, он тёплый и шероховатый на ощупь. А его пальцы, наверное, прохладные, как всегда. Можно сдвинуть руку всего на пару сантиметров и потрогать, убедиться в этом. Но я не могу этого сделать, не могу даже пошевелить пальцем, как в неприятном сне. Всего-то: подкрасться ладонью, сплести свои пальцы с его, сжать, не выпускать больше, это так просто и так важно, может быть, важнее всего на свете, от этого так много зависит, но я в оцепенении, я околдована, я за секунду впадаю в глупое, почти до слёз отчаяние... Он разрушает его простым жестом, кладя руку мне на плечо и увлекая меня дальше по набережной. Волшебство побеждено не более сильным волшебством, а простым отрицанием всего волшебного.
- Пойдём, - его рука, даже сквозь ткань моей футболки, еще холоднее, чем я ожидала.
С набережной видны баржи, пришвартованные на противоположном берегу Сены. На баржах – настоящие домики, маленькие, но уютные на вид. Ящики с цветами на окнах, веревки с бельем, полосатые шезлонги, спутниковые тарелки – всё, как у людей. На одной барже есть даже аккуратная собачья будка. В таких домах на воде живут парижские богачи, склонные к романтике – а когда-то на пришвартованных баржах ночевали нищие и бездомные. Вон там, под Новым мостом – тем, который самый старый в Париже, - стояла баржа с сеном, где ночевала маркиза Анжелика, и где её нашел длинноволосый поэт. Поэта звали Пьер Гренгуар? Нет, это уже из другой сказки.
- Значит, ты смирился? Пусть оно так и остается? И никогда самому не узнать, каково это?
- Может быть и так.
- Не похоже на тебя…
- Я же не Робеспьер. Я всего лишь тоже хочу верить в свои личные мансарды с голубями. Пусть я их никогда не видел. Но этого достаточно.
Снова мне нечего ему возразить. Мы молча бредем по правому берегу Сены; он думает о своём, я тоже о своём, точнее о его – о цвете его глаз, опять. Вспоминаю, что у каких-то северных народов – у эскимосов что ли? – есть не один десяток определений цвета снега. А его глаза занимают в моей жизни такое же место, как снег в жизни эскимоса, только моей фантазии до эскимосской далеко. Мне не хватает слов – не тех, что les mots , что повсюду в избытке, а тех, которые les paroles, буквенные шифры, единственно правдивые обозначения цвета глаз, звука голоса, касаний рук, запаха волос; и еще те, которые знаком равенства отделяются от слова «любовь»; и много еще слов-ключей от этого города, этого времени года, от Робеспьера, от его голубей, от колокольного звона на Монмартре и от позолоченной Жанны. Слова, на которые откликнется всё самое главное, и самое-самое, и может быть даже он – наконец-то – отзовётся на своё имя.
Солнце то ли уже скрылось за домами, то ли просто загородилось облаком, но становится прохладно. Липкая сырость от воды ползёт по плечам, забирается под футболку. Надо было брать с собой свитер, но кто же думал, что мы так загуляемся? Справа неторопливо проплывает Консьержери, чёрная скала в чахлых пятнах зелени у ее подножия. Не здесь ли провел последнюю ночь тот самый адвокат из Арраса? Не эти ли стены поглотили звук выстрела – попытка самоубийства не удалась, потому что по сценарию должны были быть еще голуби у Бастилии. Голуби, которых не было? А что тогда вообще было? Каменная громада давит своей тенью, дышит холодом. Я отхожу подальше от парапета набережной, я прячусь за тем, кто идет рядом со мной – будто его хрупкая фигура способна защитить меня от моих болезненных фантазий. Молча мы минуем и Новый мост, и мост Менял. У следующего моста – Нотр-Дам – я спохватываюсь, что давно пора поворачивать на остров.
Здесь, на мосту, он компенсирует мне непопадание в Тюильри и покупает мороженое. В огромный, явно нестандартного размера рожок из толстой поджаристой вафли продавшица (тоже толстая и поджаристая) щедро нагружает белую холодную массу и церемонно передает мне в руки. Выглядит страшно аппетитно. Но сам он отказывается от лакомства, презрительно морща нос и заявляя, что мол «терпеть не может все эти дела». Ну-ну, кто бы говорил.
На площади перед Нотр-Дамом многолюдно, но сумерки уже заволакивают воздух, и продавщицы цветов собирают нераспроданные розы, художник сворачивает громоздкий мольберт, а фотоаппарат моргает вспышкой в руках немолодого мужчины, фотографирующего девушку на фоне собора. Я тоже заставляю мою модель позировать перед дверями Нотр-Дама. Он нетерпеливо переминается с ноги на ногу: мол ну давай уж скорее, сколько можно прицеливаться? Я делаю вид, что ищу лучший ракурс. Ты что, думаешь легко вот так вот: одной рукой, чтоб еще мороженое не уронить, и чтоб готическая «роза» влезла? Наконец, ему надоедает старательно улыбаться «на камеру», и он расслабляется. Смотрит в сторону правого берега, откуда мы только что пришли, пинает что-то на асфальте носком кеда. Руки в карманы, глаза – в тигриный прищур. Именно этого я и добивалась. Хорошо смотрится. Почти Эсмеральда.
Группа туристов неторопливо просачивается в открытые двери собора, там внутри горят свечи и, наверное, скоро заиграет орган. Мы не пойдем туда сейчас. Мы пойдем смотреть другой Нотр-Дам, мой собственный; он прячется за угловатой коробкой фасада, отпечаток которого растиражирован на тысячах открыток. Направо, по петляющим дорожкам парка, среди аккуратных клумб, вдоль серых стен окаменевшей легенды.
Методично вылизывая мороженое и чувствуя, как немеет язык от холода, я рассказываю историю про химеру в шляпке: на одном из каменных чудовищ, угнездившихся на карнизе Нотр-Дама, надета дамская шляпка. Это средневековый архитектор трогательно увековечил для потомков свою собственную тещу. А еще там есть более поздний реставратор 19 века, он увековечил сам себя в образе святого Фомы, и теперь стоит в компании остальных апостолов и, прикрываясь каменной рукой от солнца, глядит на левый берег, от Латинского квартала до небоскребов тринадцатого округа. Я знаю много таких историй. Он слушает меня и улыбается.
- Наверное, ты и следы Квазимодо в Нотр-Даме видела? – спрашивает он.
- Нет, Квазимодо жил в другой церкви.
Он опять улыбается: мол, так я и думал. А мне в голову опять навязчиво лезет про ces cloches de malheur.
- Слушай, как ты умудряешься так медленно есть мороженое? Решила растянуть до утра?
- Я всегда медленно его ем… в этом вся суть!
- Суть у нее... оно уже всё растаяло и течет, сейчас обляпаешься, поросёнок!
- Оно слишком большое, я с ним не справляюсь! – я жалобно смотрю на него снизу вверх.
- Ну вот... давай помогу…
Поочередно обгрызая вафлю и слизывая с нее белые сладкие потёки, мы сражаемся с мороженым и, наконец, одерживаем победу. Самое вкусное – острый кончик рожка – достается мне. Руки у меня липкие, а у него нет, он не дотрагивался ими до мороженого, хитрюга. Изящно облизал губы – и будто бы ничего и не ел. Фыркает от смеха, глядя на меня:
- Настоящий поросёнок! Весь рот в мороженом… дай-ка вытру… - наклоняется ко мне.
Когда существуют такие способы вытирания, салфетками пользоваться грех и кощунство. Наверное, со стороны смешно выглядит, как я обвиваю руками его шею и одновременно держу на весу растопыренные пальцы, чтоб не склеить его волосы липким мороженым. Чувствую себя школьницей: так здорово, так приятно и немножко страшно, даже дыхание захватило. Глупая, глупая дурочка. Сколько поцелуев ты уже оставила на этих обветренных губах в тщетных попытках сбить с них вкус чьих-то чужих поцелуев, сколько ночей провела, вдыхая ни с чем не сравнимый запах его кожи, в страхе близкого рассвета, словно нервный вампир? Каждую ночь рядом с ним я боюсь засыпать, мне страшно что-то пропустить во сне, какой-то важный миг его жизни – но усталость окутывает все тело мягкой паутиной, его тихий глуховатый голос вливается в сознание, я что-то еще отвечаю, а может быть мне это кажется, а может быть уже снится, потому что я проваливаюсь в сон, как в зыбучий песок. А он, скорее всего, опять почти не сомкнет глаз, и встанет гораздо раньше меня, и снова лишит меня редкого счастья видеть его спящим и пересчитывать его ресницы. Так бывает всегда, но сегодня утром я все-таки проснулась раньше него. Да, считала, разумеется. Не успела все пересчитать, он проснулся, и ему, похоже, было неприятно, что я на него смотрю. И сейчас я опять думаю о его ресницах, которые щекочут мне висок: так сколько же их, черт возьми, таких длинных и тяжелых? Наверное, никогда не узнаю точно, и никогда не пойму, какого цвета его глаза. И кто знает, о чем он думает сейчас, и думает ли вообще, но готова поклясться, он, разумеется, что-то другое хотел сказать, и что-нибудь не то имеет в виду.
Он прерывает поцелуй, резко вскидывает голову и смотрит вдаль, поверх моей головы. Достает сигареты и зажигалку, и на его еще влажных губах тает какая-то чужая, недобрая усмешка. Между бровей намечается вертикальная морщинка, но сразу исчезает под лавиной падающих на лицо кудрей, когда он наклоняет голову к зажигалке, прикрывая огонек ладонью. Я, как всегда, опасаюсь, что он опалит себе волосы – и, как всегда, напрасно.
- Ну пойдем что ли, - невнятно говорит он, не выпуская изо рта сигарету. – Ты мне хотела что-то показать.
Это совсем близко. Дойдя до задней стены собора нужно пересечь хрустящую дорожку из гравия, обойти большую круглую клумбу, засаженную маргаритками и еще какими-то белыми и розовыми цветами, снова похрустеть по гравию и нырнуть в густую тень. Здесь, в восточной оконечности острова деревья столпились в крошечный парк, и под их сенью сладко поет фонтан – простая каменная чаша в кольце небольшого бассейна. Старый камень частично оброс мхом; под водой, среди липкой зелени блестят мелкие монетки. Раньше там можно было увидеть французские франки и сантимы, итальянские лиры, немецкие марки, чешские кроны, греческие драхмы. Сегодня здесь одни евро-центы, различающиеся лишь рисунком реверса, да проглянет изредка королевский профиль с английского пенни. Похоже, этот фонтан не такой уж заброшенный, раз туристы кидают в него монеты на счастье, и раз эти монеты кто-то время от времени вылавливает. Но мне нравится приходить сюда, думая, что это мой личный потайной уголок в джунглях Парижа. Впереди высится Нотр-Дам, совсем рядом плещется река, проплывают bateaux-mouches с их беспокойными пассажирами, и мост Сен-Луи ведет на соседний остров – владения парижской богемы. А здесь сумрачно, прохладно и тихо, совсем как на кладбище Монмартр, только вода журчит, переливаясь через края чаши. Год за годом чаша переполняется, выплескивает свое содержимое, но оно возвращается обратно, всё никак не иссякнет невидимый источник, и этот круговорот можно наблюдать и слушать вечно.
Я встаю на колени на бортик фонтана и наклоняюсь вниз, чтобы отмыть липкие от мороженого руки. Одну руку я полощу в тёплой воде, другой держусь за скользкий камень, потом меняю руки – может быть, эта предосторожность поможет мне удержаться, когда через пару секунд произойдет то, чего я ожидаю. Разумеется, он не утерпит и ткнёт меня пальцем в бок, или легонько защекочет, чтобы я с визгом полетела в воду носом вниз. Вот сейчас, сейчас… я готова, я собралась. Я успею схватить его за руку, и мы искупаемся вместе. Ну же? Но ничего не происходит. Я осторожно поворачиваюсь, разгибаю спину, готовая к любому подвоху. Но он забыл про меня; он сидит на краю фонтана, подтянув одну ногу под себя и обхватив колено руками. Смотрит на собор, который упирается в небо над деревьями, на закат, слоящийся розовыми полосами в небе над собором.
Отсюда Нотр-Дам напоминает огромный корабль, повернувшийся к нам диковинно изукрашенной кормой. Только что его обстреляли с двух сторон пиратские суда, и потоки воды – упирающиеся в землю аркбутаны – хлещут из пробоин в бортах. Но гордая бригантина развернула опаленные паруса и стремительно уходит в открытое море – чтобы погибнуть там, не сдавшись на абордаж; и запредельно высокая грот-мачта с флагом-крестом рассекает небо надвое, превращая его в подобие раздвигающегося театрального занавеса. Человеческое, рукотворное проникло в мир природы и не подчинило его, не подчинилось само, а слилось с ним в гармоничное целое. Красота? Я мысленно пробую на вкус это слово. Да, именно так. Красиво – по-настоящему, изначально, без инфляции смысла этого слова.
Интересно, а как он видит сейчас эту картину? Что представляет себе – корабль или еще что-то? А может быть, не представляет ничего, а просто впитывает взглядом эту красоту, как впитывал бы ее своими руками тот слепой. И сам он – такая же красота, человеческая, смертная, слившаяся с бессмертием резной тени дерева, шороха воды и застывшего воздуха. Профиль его – мягкий и матовый, с границами, размытыми неярким сиянием – соткан из вечернего света; до губ дотянулся закатный луч, и голубоватая тень чуть темнеет у самых глаз, где воздух совсем истончился. А рядом тени сгустились в пушистую мглу волнистых волос, и единственная ленточка света выныривает из них то здесь, то там, да просвещает путаной паутинкой рассыпавшаяся прядь на виске. Чудо, в который уже раз свершающееся на моих глазах без всякой на то причины; чудо обыденное, бесценное и безмолвное.
И как мне описать его молчание, какими словами обозначить все его оттенки, полутона и темы, если я даже не могу рассказать о цвете этих глаз? Чаще всего я не понимаю, о чем он молчит. Иногда я готова слушать его молчание вечно. А бывает, что мне хочется заткнуть уши и забиться куда-нибудь подальше, лишь бы не слышать это кошмарное безмолвие, ставшее метафорой невыразимого, рвущего душу крика.
Но сейчас я знаю, о чём он молчит. И я знаю, что ему ответить.
- Не притворяйся. Я тебя знаю, - произнося эти слова, я чувствую себя безрассудным игроком в покер, который блефует, что у него якобы полное каре, тогда как на руках бессмысленный набор из двоек и троек. «Знать его» - это звучит нонсенсом.
- Ты можешь сколько угодно убеждать себя, делать вид, что смирился, и пусть оно так и остается, лишь бы кто-то был рядом, лишь бы не было больно. Но это не правда. Ты же знаешь, что ты не можешь так жить. И неважно, что ты об этом думаешь. Ты ничего не можешь здесь поделать.
Он ничего не отвечает, молчит, застыв на краю фонтана, как немая статуя. Только выражение лица слегка изменилось – нет, не изменилось, всего лишь какая-то тень скользнула. А я чувствую себя так, будто только что его ударила. Так странно, неприятно, но в то же время легко.
- Всё дело в тебе. Только в тебе самом. Здесь и надо искать.
В ответ он лишь устало прикрывает глаза. Улыбается нездешне и совсем мне непонятно. Поворачивается к фонтану и опускает туда руку. Зеленоватая вода послушно охватывает его запястье. Я наблюдаю, как его рука неторопливо движется в воде туда-сюда, по часовой стрелке, против нее, устраивает маленькие водовороты, в которых кружится пара увядших листьев и птичье перо. Он пристально смотрит в фонтан, и от этого вода принимает цвет его глаз.
Вот он вынимает руку и процеживает воду сквозь пальцы. Я слежу за его движениями, как за маятником гипнотизера, и постепенно погружаюсь в сонное оцепенение. Вперед-назад… Влево-вправо… как маятник… как колокол… Интересно, почему не звонят колокола в соборе? Они всегда звонят вечером… Наверное, уже слишком поздно… Les cloches ne sonnent plus ; тихо, пусто, и в голове моей не осталось ни одной мысли, они даже не успевают возникнуть, как сразу проскальзывают куда-то, как струи воды в его пальцах.
Словно в замедленной съемке я вижу, как он распрямляет спину, вынимает руку из воды, подносит к моему лицу и встряхивает, рассыпая веер брызг. Я могла бы увернуться, но мне не хочется, или же я просто не в силах пошевелиться. Чувствую, как прохладные капли стекают по лицу, по шее, виснут на ресницах и ползут за воротник. Его плутоватая улыбка взрывается детски-озорным смехом, который резко звенит у меня в ушах. Он срывается с места и отбегает на пару шагов в сторону, на более-менее безопасное расстояние, там грациозно оборачивается ко мне в ожидании страшной мести.
- Ну ты и подлец, - говорю я, размазывая воду по щеке. Почему-то я чувствую себя на пару жизней старше, чем обычно. А в таком возрасте несолидно бегать за всякими хулиганами, чтобы искупать их в фонтане. – Ладно уж, пойдем куда-нибудь.
Мы уходим в ту же сторону, откуда пришли, невольно закидывая головы при приближении к собору. Над его крышей откуда-то из пепельно-голубого шелка неба-занавеса выныривает серебряная иголка самолета, оставляющая за собой белую нить инверсионного следа. У основания соборного шпиля самолет попадает в последний луч заката, и его след вспыхивает сахарно-розовым. Глядя на этот последний штрих к впечатляющей картине я вспоминаю про фотоаппарат в сумке. Надо было бы еще поснимать эту живую статую у фонтана… Мысль погибает при рождении от своей жалкости и беспомощности.
Потом мы неторопливо бредем по средневековым улицам острова, болтая ни о чём и проваливаясь в густые сумерки. Темнота наступает резко, как будто на нашу птичью клетку накинули платок. Мы стоим на мосту Менял, а вокруг расцветает лакированная парижская ночь. Парижу нет дела, что это время суток называется тёмным, Париж полыхает светом. Окна домов, террасы кафе, фонари, витрины магазинов, неоновые рекламы, фары автомобилей, даже экраны мобильных телефонов и вспышки зажигалок – свет везде, он поглотил ночь и опалил желтым заревом подол траурного неба. Золотая лава разлилась по обоим берегам; она живет своей собственной жизнью, где-то тускнеет, где-то вспыхивает ярче, кипит и плавится. И в самой середине огненного моря, прямо под нашими ногами разверзлась извилистая черная трещина, которая днём называлась Сеной. В ее блестящей мгле огни набережной отражаются длинными дрожащими полосами – столбы адских костров полыхают в раскрывшейся преисподней. Жуткая и захватывающая картина - Paris nocturne , апокалипсис tonight.
Сюрреалистическую панораму ночного Парижа довершает неполноценный круг луны, ютящийся на небе чуть выше колеса обозрения в саду Тюильри. В адской расщелине тоже есть луна – размытое белое пятно дрейфует под Новым мостом. Конечно, как же без луны в преисподней, она необходима для поэтов и собак. Я не знаю, есть ли собаки в аду, но поэтов там должно быть полно; а куда им еще деваться; и на что им еще смотреть по ночам, после того, как найдены все принцессы на баржах с сеном и во Дворе Чудес. И мой Гренгуар тоже смотрит на луну, но не на живую, небесную, а на отраженную в воде.
На мосту фонари редки. Мы стоим неподалеку от одного из них, избегая пыльного круга света. Мимо время от времени проходят люди, но они держатся другой стороны и учтиво стараются обходить нас, принимая за влюбленную пару. Он курит – одну за другой, как обычно, - облокотившись о витые перила, точно в той же позе, в какой утром стоял у окна в гостинице. Его шарф свесился через ограждение и слегка покачивается, хотя ветра нет. Я вслух читаю черно-золотую карту города.
- Вон, видишь, там огонёк? – я вытягиваю руку вперед и налево.
- Какой?
- Вооон там... выше, чем остальные.
- Не вижу.
- Да вот же...
- Неа...
- Ну смотри… вот, встань на моё место… следи, куда я показываю…
- Этот что ли?
- Да-да.
- И что там?
- Эйфелева башня.
- А-а.
- Ты видел ее близко?
- Нет. Я и далеко-то не очень ее видел.
- Зря. Если ты в Париже, то нужно обязательно посмотреть на нее вблизи.
- Почему нужно?
- Ну потому что… традиция такая. Это как бросать монетки в Сену с мостов.
- Монетки можем бросить, если хочешь.
Второй раз за день я обыскиваю свои карманы и сумку и второй раз с разочарованием обнаруживаю, что у меня только пластиковая карточка. Швырять в воду пластик вместо монет – антиутопия надвигающейся глобализации. Монетки находим в его карманах. Кидаем целые пригоршни. Тусклое золотистое конфетти на мгновение рассыпается над чёрной бездной, и пропадает из виду, не коснувшись ее. Выкупили свои души на неопределенный срок.
Рядом с прожектором Эйфелевой башни появляется другой огонек. Это не на башне, он движется в небе, вспыхивает, гаснет и снова вспыхивает. Бортовой огонь самолёта. Интересно, как выглядит ночной Париж с такой высоты? Ни разу не видела.
- Кстати, - сообщаю я, - я завтра улетаю.
- А-а.
- Утром, то есть уже через несколько часов.
- Угу.
- Из «де Голля».
- Угу.
- Рейс в семь-пятнадцать.
- Ага.
- Знаешь, куда?
- Домой, наверное.
- Вроде того.
- Понятно.
Молчание вновь повисает между нами. Я опять вспоминаю про фотоаппарат, но для съемок уже слишком темно, к тому же я знаю, как его раздражает вспышка. Пожалуй, хватит на сегодня фотосессий. Мы достаточно поиграли в туристов, и я увезу с собой относительно веские технологические улики существования этого дня. Я люблю фотографии той смешной сентиментальной любовью, в которой неловко признаваться, а его фотографии – особый разговор. Отпечатки его бытия в меняющихся декорациях извлекаются из альбома редко – тогда, когда память и рассудок дают сбой, а мне жизненно важно подтвердить существование этого человека в пределах моей галактики. Прошедший день я еще буду вспоминать, и не раз, и в конце концов найду, чем его освидетельствовать; а пока это возможно – доверюсь зрению.
Это так хорошо, что он разрешает мне подолгу смотреть на него. На всю жизнь не насмотришься, но хотя бы чуточку утолить свою жажду, глотая его взглядом, всего и по частям. Его длинную изломанную фигуру, выхваченную электрическими лучами из полотна мрака. Чуть выгнутую спину, по которой рассыпались тёмные кольца волос, частично выбеленные светом фонаря. Свесившуюся над водой руку с зажатой в пальцах сигаретой. Перламутровую шею, и приподнятый подбородок, и нервно-неровную линию плотно сжатых губ, и бархатную полумаску из мрака, скрывающую его лицо выше. Любоваться. Фантазировать: ему бы пошли крылья. Не крылья ветряной мельницы, как сегодня на Монмартре, а настоящие, ангельские, как у того изваяния на кладбище. Sur le Pont-au-Change сe soir j'ai rencontre un ange qui m'a souri . Ну повернись же. Улыбнись мне.
Он оборачивается ко мне. Улыбки не должны быть такими. С его искривленных губ слетает струйка дыма, такая белая в черном воздухе. Сияние фонаря разливается над его головой и плещется в волосах, тени скульптурно обрисовали черты лица, сделав их совсем тонкими и нереальными. Его глаза смутно блестят из тени. Он задает мне вопрос – отрывисто, небрежно, как бы невзначай, иронично прищуриваясь. Наверное, вот так же он бы шагнул с этого моста: скорее, лишь бы не думать об этом больше, лишь бы побыстрее закончилось, лишь бы не выдать своей слабости. Я никогда не видела его в отчаянии раньше.
- Так что же это такое – любовь? А?
- Думаешь, я знаю?
- Конечно.
- Почему?
- Потому что ты знаешь, куда смотрел Робеспьер перед казнью. И я верю, что ты действительно знаешь.
- Хорошо. Я попробую. Понимаешь, здесь главное – правильно задать вопрос.
Он затягивается сигаретой так жадно, что оранжевый огонек доползает до самого фильтра. Гасит окурок о металлические перила и отправляет его в преисподнюю. Еще тлеющая искорка описывает ровную дугу и исчезает в черной воде. Звезда упала. Загадать желание? Нет, важнее – правильно задать вопрос. Лаконичной шифровкой на чужом языке, чтобы слова несли только свое единственное точное значение, без пыльных наслоений предрассудков и сентиментальных ассоциаций.
- Is it passion?
- Not only
- Confidence?
- Not only.
- Devotion?
- Not only.
- Tenderness?
- Not only.
- Mutual understanding?
- Not only.
- So what is it?! – он перешел почти на шёпот, но мне кажется, что он срывается в крик.
- It’s not only passion, confidence, devotion, tenderness and mutual understanding. It’s something more.
- A vicious circle… Fuckin’ endless chain.
- Exactly. The point is to find its missing link.
- I’ve been seeking it for all my fuckin’ life. And I still dunno anything about it.
- Keep on seаrching. I’m afraid it’s the only way to find something.
Я не хочу смотреть в его сторону, мой взгляд прикован в калейдоскопу огней вокруг Лувра, но краем зрения я замечаю его побелевшие пальцы, стискивающие холодный металл перил, и, кажется, даже серебристую искру, проскочившую в волосах; шестым чувством слышу подавленный стон, умирающий в его горле – разочарование, отчаяние, бессилие с доброй порцией бешенства. Я всё упрямо опускаю глаза и пожимаю плечами. Выходит жестоко и почти виновато; мне жаль, но мне действительно больше нечего ему ответить. Нет вопросов – не будет и ответов. Я не имею права на другие слова, и вообще кроме слов у меня больше ничего нет; и на него самого я не имею таких прав, как луна, которую он снова гипнотизирует взглядом; я всего лишь принцесса, или кто-то вроде нее, и мне мерещатся голуби, и ангелы, и бригантины, и Жанна д‘Арк. А он – длинноволосый поэт с парижских улиц; ему двадцать семь лет, не считая столетий; он рассказывает другим об их чувствах; и цвет его глаз – точка отсчета для других цветов; и он ведет беззвучные диалоги с луной: lune, qui la-haut s'allume sur les toits de Paris, vois comme un homme peut souffrir...
D'amour ?
(De quoi ?)
Слепой художник, не видящий своих картин; глухой звонарь, не слышащий звука колоколов; а что не в порядке с поэтом, не ведающим истинного смысла своих стихов?
К чёрту стихи и песни – encore des mots, toujours des mots, les memes mots, rien que des mots - в преисподнюю их, развеять над Сеной; veux-tu, Gringoire, que je te prenne pour epoux , чтобы спасти твою красивую шею от проклятой веревки Двора Чудес? Это к разговору о том, что кто-то должен быть рядом, обязательно должен, а может быть даже это и к разговору о любви.
- А знаешь, - говорит он, снова оборачиваясь ко мне, - думаю, было бы неплохо.
- Что? – (и почему ты так смотришь на меня? Я что-то не то подумала?)
- Взглянуть на нее вблизи. На Эйфелеву башню.
- Правильно, - киваю я, - завтра сходи и посмотри обязательно.
- Нет, я хочу сейчас. Пойдем, сходим.
- Нет, лучше не надо. Я устала, хочу пойти домой и лечь спать. Еще бы вещи собрать надо.
- Вещи?!
- Я же завтра утром улетаю. Уже почти сегодня.
- Ах да… Жаль. Мне так хочется её сейчас посмотреть.
- Давай так: я пойду в гостиницу, а ты туда. И гуляй вокруг башни хоть до утра.
Он колеблется, но явно из вежливости.
- Думаешь, так лучше?
- Куда лучше, чем если я, усталая и засыпающая, потащусь с тобой черте куда; и лучше, чем если ты придешь в гостиницу и будешь всю ночь мучиться мыслью о башне.
- Точно, - соглашается он, - так лучше. А ты доберешься одна до гостиницы? Ночь уже.
- Ерунда. Здесь в двух шагах метро «Шатле», и я за пять минут доберусь до дома. Это я боюсь, как бы ты не заблудился.
- Ну, я так понимаю, она на берегу стоит, и это не так уж далеко. Значит, перейду на ту сторону и буду идти по набережной, пока не дойду до нее. А обратно… такси возьму, наверное.
- Правильно. Но холодно уже стало, смотри не простудись.
- Если замерзну, зайду в какой-нибудь бар погреться.
- Только не забудь в баре, что ты хотел посмотреть башню.
- Есть, госпожа командир, - он глумливым жестом отдает честь.
- Вольно... Ну, тогда... - (нет, я не хочу говорить это первой).
- Тогда счастливо. – (спасибо, что сам сказал).
- И тебе счастливо.
Прощальный поцелуй выходит каким-то беспомощным, суховатым и скомканным. Я отстраняюсь, секунду вглядываюсь в его наклоненное ко мне лицо, потом приближаюсь опять – так, чтобы не видеть ничего, кроме его глаз. Нет моста Менял, нет Парижа, нет мира, в котором Париж, нет миров, в которых был этот мир. Только глаза. Они не отражают меня – как и всегда, впрочем. Они не отражают вообще ничего, потому что кроме них ничего и нету. Цвет? Никакого. Только тьма. Тьма, тёмная до такой степени, что превращается в свет; свет, переходящий во тьму. Вот и всё. И ничего больше.
Его ресницы быстро опускаются, отталкивая мои, и отталкивая меня. Взметнулись снова – но мост, фонарь, город, мир, Вселенная уже обрушились на меня со всех сторон.
- Закрой глаза еще разок, - опять прошу я.
Мне опять приходится встать на цыпочки и двумя руками слегка наклонить его голову. Очень-очень осторожно, задержав дыхание, я касаюсь губами его век. Они словно из осенних листьев, такие хрупкие, что вот-вот рассыпятся в прах под моими невесомыми поцелуями. Его ресницы дрожат и щекочут мои губы. Он открывает глаза и впервые смотрит не вдаль и не вглубь, а будто бы по-настоящему на меня.
- Ты не пропадай, - говорит он. – Звони.
- Ага, ты тоже. – мы подписываем очередной экземпляр молчаливого соглашения о том, что наши телефонные разговоры случаются еще реже наших реальных свиданий. Скрепляем печатями робких улыбок.
- Ну пока. Обещай, что не простудишься.
- Обещаю. Счастливого пути, - он выпускает мою руку, я делаю шаг назад, и чувствую, что словно сам мост Менял разламывается на две половины, и та, на которой стою я, со скоростью света отдаляется от него, увлекая за собой и весь правый берег Парижа, и половину Франции, и осколок земного шара. Я еще чувствую его тепло в пальцах, еще слышу его запах, еще вижу сияние его взгляда, но он уже в тысячах световых лет от меня. Я отворачиваюсь и не спеша иду к берегу, ведя рукой по перилам, пока на моем пути не встает фонарь. Останавливаюсь. Чувствую на шее взгляд, которому не помеха никакие световые тысячелетия. Снова 180 градусов вокруг своей оси.
Смотрит. Вполоборота. В сиянии. Ждёт.
Париж тоже ждёт. Затаил дыхание перед последними репликами, а может быть, перед прощальными выстрелами в чей-то висок, его или её. Последние высокопрофессиональные паузы перед падением занавеса и громом аплодисментов.
- Эй, - негромко говорю я, обнимая талию фонарного столба как единственную точку опоры в неустойчивой Вселенной. – А может быть, любовь - это ты?
Смотрит. Глаза. Прищур. Недоверчивый.
- Чья же?
- Чья-нибудь. Кого-нибудь, вроде меня.
- Но почему тогда?...
- А как иначе?
- Merde...
Точно.
Я поворачиваюсь и быстрым, летящим шагом спускаюсь по мосту. Выхожу на набережную, перебегаю улицу и только на углу дома останавливаюсь, чтобы обернуться и в последний раз украсть у ночи тонкий силуэт одинокой фигурки на мосту под фонарем. За устало опущенными плечами больше нет крыльев, даже крыльев ветряной мельницы.
© hellagood
зима-весна 2004
|
Инфо:
>>
история
>> состав группы
>> статьи, интервью
>> лирика
>> ссылки
>> о сайте
Файлы:
>>
фотографии
>> аудиофайлы
>> видеокаталог
>> tattoo-salon
>> wallpapers
>> winamp skins
Фэны:
>>
галерея посетителей сайта
>> переводы текстов
>> истории
>> арт, рисунки
>> косить, косить...
>> интерактив
[на
главную]
@e-mail
|